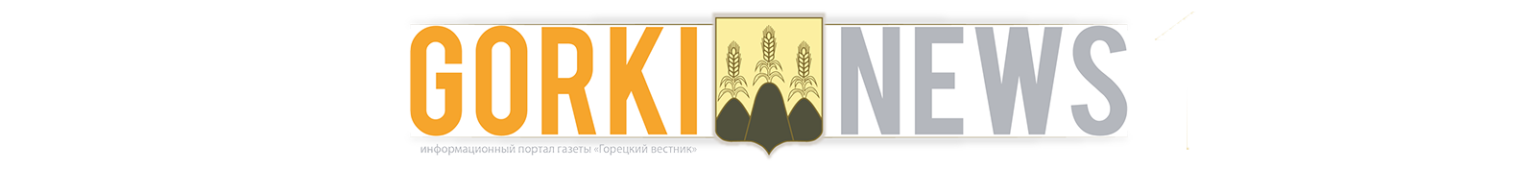Лагерь смерти в Горках

В годы Великой Отечественной войны миллионы бойцов и командиров Красной Армии были захвачены немецкими войсками в плен. В большинстве своем это молодая трудоспособная часть населения в возрасте от 20 до 40 лет. Судьба для многих оказалась жестокой: они умирали от голода, ран, болезней, непосильного труда, издевательств.
Проблема советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны до 90-х гг. XX в. практически не являлась предметом самостоятельного исследования советских историков. В музее БГСХА хранятся уникальные воспоминания людей, которые прошли немецкий плен, и очевидцев людских страданий в Горецком лагере для советских военнопленных 1941-1942 гг. В полном объеме данный материал никогда не публиковался. Впервые мы это делаем в преддверии 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Обратимся к истории: фашисты оккупировали Горки 12 июля 1941 года, и сразу по приказу немецкого командования на территории институтского клуба им. Молокова был организован лагерь для военнопленных.
Изнутри весь зрительный зал был разделен на ячейки-прямоугольники из досок. Ширина была рассчитана на 5-6 человек. Все окна были забиты досками. Охрана располагалась на сцене и состояла из полицейских и предателей из числа военнопленных, а для поддержания порядка внутри лагеря назначался наряд полиции. Помещение у входных дверей занимала охрана из немцев, была еще и общая снаружи.
Рабочий день в лагере начинался рано. Всех, кто держался на ногах, выстраивали перед клубом. К этому времени усиленные наряды полиции, солдат перекрывали улицы Тимирязева, Мичурина, никого из гражданских не подпускали и близко. За нарушение этого запрета наказывали.
Военнопленные работали обычно на месте нынешнего стадиона БГСХА. Туда гитлеровцы свозили бревна, а заключенные делали из них коробки-укрытия для техники и дзотов. Эти коробки гитлеровцы вывозили для строительства укреплений.
| Из воспоминаний бывшего заключенного лагеря Александра Александровича Суслова: «В плен попал под Вязьмой осенью 1941 года. В конце октября колонну в несколько сотен человек пригнали в Оршу. В городе расформировали по местам дальнейшего заключения. В составе партий около двухсот человек. Когда нас отправляли из Орши, дали на дорогу хлеба немного. Это впервые за три-четыре дня. Воду пили из луж. В конце октября прибыл в Горки. А в лагере, как в лагере: баланда три раза в день (горсть муки, сваренная в воде, да овощи кое-какие) и пайка эрзац-хлеба весом граммов 100. Вначале, как пригнали, мы пытались организовать побег. Но он оказался безуспешным. До сих пор помню, как перед шеренгой истязали беглецов. Наказание — сорок палок. После двадцати-тридцати ударов человек умирал. Смерть преследовала пленных постоянно. Умирало много от голода и от болезней, замерзали, не выносили издевательств. По утрам выносили трупы из клуба, зарывали среди деревьев. В лагере был недолго. Через неделю заболел дизентерией, попал в «заразные» бараки. По излечении был возвращен обратно в лагерь, но вскоре, дня через три-четыре, заболел тифом. Снова бараки. Оправившись от болезни, с помощью советских женщин и фельдшера Колоскова устроился дезинфектором. С разрешения немецких властей поселился в городе, на частной квартире недалеко от дома Павла Яцуна. Это обстоятельство впоследствии помогло связаться с подпольем. Я не могу сказать, сколько нас было в лагере, вырвавшись на свободу, я старался обходить то место, поэтому так мало могу сказать. Отлично помню ту человечность, поддержку, котораябыла среди пленных. Население помогало нам продуктами, которые мы отдавали более слабым». |
| Из воспоминаний Надежды Михайловны Першай, бывшей санитарки городской гражданской больницы. «Что я знаю о лагере? Мало. Работала. Сутки в больнице, сутки дома. Некогда было прислушиваться, присматриваться. Скудным пайком, который выделил райздравотдел магистрата прокормить семью было трудно. А к нам они из лагеря попадали часто. В основном пленных и лечили. Хотя что это было за лечение?! Поступит с сыпным или брюшным тифом, не знаешь, как быть. Вши да кости. Лежит без движения, только смотрит. Жалостно, обреченно. Метелкой обметешь вшей, а дальше? Слезою лечить? Лекарств нет, и слез тоже. Выплакала все, а сердце… Оно в горе окаменело, как ледяное. Ранено однажды, глубоко и молчит. Сегодня удивляюсь иногда: неужто было это? Как страшный сон. Приходили десятки пленных, а выживали единицы. Некоторых оставляли в больнице, как фельдшера Моржина и дезинфектора Суслова. Помню, упросила Христину, женщину из деревни Орлы, чтобы взяла к себе одного молоденького солдатика. Иванов фамилия. А больше что знаю? Говорили люди, что подпольщиков там нашли, коммунистов, комсомольцев арестовали. Что-то около тридцати человек. Расстреляли всех. Были и побеги. Но далеко ли уйдешь? Партизан не было, да и люди боялись, не помогали беглецам. Продуктами с ними делились. Да и как не дашь? Свои ведь, советские! В больнице тех, кто выживал, мы подкармливали. Правда, шутили: не надо было попадаться в плен, драться надо было. Зло шутили, жестоко. Кажется, все». |
Основной причиной жестокого отношения к советским военнопленным являлась нацистская теория о расовой неполноценности славян, в частности, русских, которые воспринимались нацистами как «масса расово неполноценных, тупых людей».
Тяжелое положение советских военнослужащих в нацистском плену гитлеровское руководство объясняло тем, что СССР не признал Гаагскую конвенцию и Декларацию 1907 года о законах сухопутной войны и не подписал Женевскую конвенцию 1929 года, определявшую правовой статус военнопленных, хотя эта конвенция была подписана 47 странами.
На самом деле, Гаагскую конвенцию подписала Российская империя, а Женевская конвенция регламентировала отношение к военнопленным вне зависимости от того, подписали ли их страны конвенцию или нет.
Стремясь к массовому уничтожению советских военнопленных, власти нацистской Германии обрекали солдат Красной Армии на вымирание не только от голода, но и от инфекционных заболеваний, не оказывая им никакой медицинской помощи.
| Из воспоминаний Елены Антоновны Чернушевич, в годы войны работавшей санитаркой в местной больнице: «В лагере было около 600 человек. Пригнали их летом 1941 года, поместили в клуб им. Молокова. Не знаю, как там они, что. Лечили мы их, но наше лечение было таким… Как судьба. Ничего не было. И они умирали. От болезней, голода. Их там осталось в земле около 400 человек. Остальных вывезли куда-то». |
| Из воспоминаний Елены Антоновны Чернушевич, в годы войны работавшей санитаркой в местной больнице: «В лагере было около 600 человек. Пригнали их летом 1941 года, поместили в клуб им. Молокова. Не знаю, как там они, что. Лечили мы их, но наше лечение было таким… Как судьба. Ничего не было. И они умирали. От болезней, голода. Их там осталось в земле около 400 человек. Остальных вывезли куда-то». |
| Из воспоминаний Сергея Николаевича Дубяго, уроженца г. Горки: «Моя бабушка работала в «русском» госпитале, то есть там, где находились на излечении раненые советские солдаты. Она вспоминала: «Поначалу немцы наших раненых не трогали, но и не помогали ничем. Гангрены, черная, как уголь кожа раненых конечностей, черви в ранах, про запахи не говорю. Из медикаментов человеческая моча, много раз перестиранные бинты из порванных простыней, отвары — из коры дуба и некоторых растений». Где находился госпиталь, не могу точно сказать, но ходить ей от дома было не так уж и далеко. Кормить раненых солдат тоже было нечем. В теплую пору им давали лебеду с крапивой, да и то, что Бог пошлет, а когда пришла зима, кормили мерзлой брюквой и гнилой капустой, отчего многие умирали практически ежедневно. Как уже говорилось ранее, немцы для советских раненых ничего не делали, кроме одного случая, который произошел зимой 1942-го. Зимы той порой уж очень лютые были. Так вот, чтобы из госпиталя не было побегов, немцы всю теплую одежду, вплоть до гимнастерок, у красноармейцев изъяли. Как раз в это время в госпиталь попали два летчика. Бабушка Мария рассказывала, что ранены они были серьезно и, несмотря на это, у них тоже забрали одежду. Бабушка вместе с докторшей, фамилия то ли Золотарская, то ли Золотаревская, решили помочь им вылечиться и бежать. В этот госпиталь периодически заходил немецкий доктор, открыто он ничем не помогал, но, видимо, смотреть, как мучаются раненые солдаты, спокойно не мог. Доктор Золотарская с бабушкой попросили его дать хоть немного хороших лекарств, и он согласился, но сказал быть очень и очень осторожными даже с другими русскими, потому что, если гестапо узнает, всех расстреляют вместе с семьями. Кроме лекарств он давал им еще понемногу и продуктов. Спустя некоторое время, когда летчики окрепли, бабушка вместе с доктором Золотарской сшили им, как смогли, из одеял одежду, а на ноги бурки — это такие валенки, прошитые из нескольких слоев одеяла. Дали летчикам еды на дорогу из собранных крох. И зимней холодной ночью вывели из больницы, а на их место положили заранее подготовленные трупы умерших чуть ранее солдат. Бабушка говорила: «Столько страху натерпелась с докторшей, один Бог знает, но все же сделали». А я уже помню, что где-то в конце шестидесятых приезжал в Горки и был в нашем доме один из оставшихся в живых летчиков». |
Жители нашего города пытались помочь военнопленным.
| Из воспоминаний Бориса Васильевича Татарского, уроженца г. Горки: «В то время мне было 14 лет. Возраст такой, когда интересно все. Лагерем же интересовался особенно. Даже внутрь проникал. Из котельной клуба по теплотрассе пробирался с товарищем в оркестровую яму. Обычно уславливались с пленными, и нас ждали с вечера. Проберешься, позовешь тихонько, подашь собранные матерью продукты, и сразу назад. Боялись привлечь внимание охраны, она проверяла даже самый незначительный шум. В клубе разговаривать было запрещено. Особенно близко сошелся с одним из военнопленных, Александром Небабой, уроженцем то ли Курской, то ли Воронежской области. А. Небаба был близорук, очки свои потерял, и я нашел ему новые. От него я узнал, что большинство из красноармейцев попало в плен под деревней Темный Лес, а часть — где-то в середине августа прибыла из Ленино. Военнопленных вначале поместили на станции Погодино, в багажном сарае. Они работали на разгрузке вагонов и ремонтировали пути. Он рассказывал, что однажды гитлеровцы повесили двоих солдат, сыпавших в буксы вагонов песок. Позже, когда прибыли пленные из Ленино, лагерь перевели в город. В лагере было вначале что-то около 400 человек, потом стало 600. Условия содержания были самые ужасные: грязь, вши, болезни. Это было содержание с расчетом на медленную смерть. Умирали не только от болезней, голода, холода, я видел людей, задавленных бревнами, пристреленных, умерших от побоев. А. Небаба рассказывал о том, как зондерфюрер Нидерер, который отлично владел русским языком, в качестве развлечения травил военнопленных собакой и имел хобби стрелять грачей, а лапки их потом прибивать к косяку входных дверей. Однажды, когда я пришел на стадион за щепками, А. Небаба показал мне останки людей, в отчаянии бросившихся в котлы с кипящей смолою, которой обмазывали коробки-укрытия. А. Небаба, доверяя мне, рассказывал, что существует подпольная организация. Чем подтвердить этот факт — не знаю. Может тем, что поздней осенью 1941 года заключенные подняли бунт? Организованный он был или нет, не знаю. А. Небаба говорил, что организаторов выявили, увели в комендатуру, а потом их расстреляли в «липках». Не исключено, что бунт был стихийным, в ответ на издевательства пьяных полицаев, устроивших избиение пленных». |
Как и везде, в Горках немцы вначале отдавали пленных женам, матерям за продукты и золото. Потом прекратили. Постепенно режим в лагере стал более жестким, и это было связано с побегом нескольких человек, отправленных работать на льнозавод.
| Из воспоминаний Сергея Ивановича Воробьева, начальника разведки бригады «Звезда», действовавшей на территории Горецкого района в годы войны. «Будучи членом подпольного городского центра, я связи с военнопленными не имел. Этим вопросом занимался Павел Яцун, он и привлек Суслова к подпольной работе. Еще в подполье я связался с бывшими военнопленными, которые работали в немецкой комендатуре шоферами. Мы решили, что оружие пригодится в партизанах, разработали план его вывоза. В гараж гитлеровцы свезли много оружия (гранат без запалов) с мест бывших боев. Наладив связь с этими шоферами, мы рассчитывали, что они, взяв машины, погрузят на них оружие и приедут в условленное место. Ответственность за проведение операции была возложена на П. Яцуна. Они не приехали. Позже мы узнали, что их схватили и расстреляли гитлеровцы. Через Нину Ласкевич, переводчицу магистрата, участники подполья доставали документы раненым военнопленным, которые находились в больнице. Таким образом спасли много человек. А в нашей бригаде «Звезда» бывших военнопленных партизанило много. Мы освободили около 50 человек на Чепелинском торфозаводе. Сражались они хорошо, многие были награждены правительственными наградами». |
Летом 1942 года лагерь военнопленных в Горках был ликвидирован. Оставшихся в живых пленных вывезли. На месте лагеря остались большие могилы, в каждой захоронено по несколько десятков человек.
| Из воспоминаний Сергея Николаевича Дубяго, уроженца г. Горки: «Много захоронений находилось на территории академии в огромном рве, который начинался от городской поликлиники, располагавшейся в красном кирпичном здании (сейчас санстанция) и продолжался по направлению к десятому корпусу, заворачивал влево и упирался в улицу Бруцеро-Ерофеевскую. Бабушка Мария Ерофеевна Дубяго рассказывала, что в этом рве, по низине которого тек ручеек, производили массовые расстрелы, после которых, с ее слов, земля еще долгое время «ходила ходуном», а также туда свозили уже ранее убитых. Расстрелы происходили по всему рву, включая и место, где стояла танцевальная площадка «Березка», и дорогу, которая ведет к ней от стоявшей раньше кирпичной стены, и дальше — к улице Бруцеро-Ерофеевской. Не могу сказать точно, возможно, этот ров назывался «Марьина роща». Особенно полицаи любили это место для расстрелов. Если полицай повел в ров девушку или мужчину, вряд ли они возвращались оттуда живыми… Я помню, бабушка говорила, что особенно много было расстреляно около красной поликлиники, даже чуть ниже в сторону академии, в районе танцплощадки». |
Когда фронт приблизился к Горкам, здание институтского клуба оккупанты разобрали и бревна использовали для строительства оборонительных блиндажей.
В год празднования 75-летия Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками в рамках проекта «Без срока давности» планируется привлечение 52-го поискового специализированного батальона для проведения поисково-разведывательных работ на территории бывшего лагеря, располагавшегося на пересечении улиц Тимирязева и Мичурина, по выявлению захоронений военнопленных красноармейцев и установлению их имен. В случае обнаружения захоронений предусматривается проведение перезахоронений в общую братскую могилу.
Борис Васильевич Татарский вспоминал: «А. Небаба говорил, что они вместе с умершими в могилу клали бутылки или банки с записками, в которых указывались фамилия, имя, отчество умершего, место рождения, или же эти данные выцарапывали на куске дюралюминия, которого на стадионе было множество».
Возможно, в юбилейный год нам удастся восстановить некоторые имена погибших военнопленных красноармейцев, найти их родственников, для того, чтобы сохранить память поколений о трагических событиях Великой Отечественной войны.
Татьяна ЛОСЕВА,
заведующая музеем
УО «БГСХА»
| Советские военнопленные массово умирали в немецких лагерях от истощения, особенно в сборных лагерях, где они содержались первое время после пленения. Так, по приказу Верховного командования сухопутных сил Германии от 8 октября 1941 года, норма питания советских военнопленных на тяжелых работах составляла в день: хлеба — 321 г, мяса — 29 г, жиров — 9 г, сахара — 32 г. На менее значительных работах в лагере военнопленные получали: хлеба — 214 г, мяса ни грамма, жиров — 16 г, сахара — 22 г |
Сегодня около бывшего расположения лагеря военнопленных, как память о павших красноармейцах, стоит памятник с надписью: «Здесь, на этом месте в годы Великой Отечественной войны в фашистском лагере смерти были зверски замучены более 300 советских граждан.



Фото предоставлено
музеем УО «БГСХА»